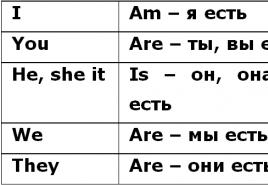Говорить религии время солженицын. Протоиерей Николай Чернышёв: «В Солженицыне был позитивный, жизнеутверждающий и светлый настрой христианина. Борьба за церковь
Идеологизм Солженицына не одобряли в русском зарубежье, но приняли на родине. Фото Бориса Кавашкина/ТАСС
Так уж повелось, что в России писатель (да и вообще яркий публичный человек) воспринимался учителем жизни. То есть пастырем (в том числе и в религиозном смысле). Естественно, это предопределяет пристальный интерес к его религиозным взглядам. Кто-то, как, например, Лев Толстой, этим активно пользовался. Кто-то, как наш сегодняшний герой - Александр Солженицын, относился к этому негативно.
Но такая традиция тем не менее, увы, остается.
В дни Ивана Денисовича
Давно уже стало общим местом утверждение, что жизнь и творчество Александра Исаевича Солженицына отразили отечественную историю ХХ века. Впрочем, банальность утверждения не делает его в меньшей степени истинным.
В данном случае симптоматичны (и символичны) религиозные искания писателя. По собственному признанию Александра Исаевича, он воспитывался в верующей семье и, будучи школьником, посещал церковь. Позднее писатель возвращался в воспоминаниях к тому «необычайному по свежести и чистоте изначальному впечатлению, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории». Но пропагандистский прессинг, который нередко подменял собой процесс преподавания в школе, а также привлекательность (от слов «прельщение», «прелесть») коммунистической идеологии на долгие годы загромоздили для будущего писателя путь к храму, прикрыв собой «неповторимое, чисто-ангельское восприятие богослужения, которого в зрелом возрасте уже не наверстать». «В молодом возрасте легки эти переходы», – признается он позднее в «Марте Семнадцатого».
Еще одним общим местом стали другие слова Солженицына – о «благословении тюрьмы». Но именно в лагере молодой наблюдательный человек обратил внимание, что вера действительно поддерживает зэка, не дает ему сломаться. В «Одном дне Ивана Денисовича» он так описал чувства заглавного героя, которые, можно предположить, были близки и ему, учитывая определенную автобиографичность персонажа: «Тоже горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка». При этом Иван Денисович Шухов подчеркивает: «Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится».
Когда после освобождения из заключения Солженицын возвратился в церковь?
По мнению протоиерея Александра Меня, это произошло не сразу. Размышляя о рассказе нобелевского лауреата «Пасхальный крестный ход», он в разговоре с автором настоящей статьи обращал внимание, что богослужение там дано глазами неверующего. Последнее подтверждается и в письменных воспоминаниях Меня о Солженицыне: «Христианство было для него некоей этической системой». Самого писателя в эти годы (1966–1967) священнослужитель считал «скорее всего толстовцем». Думается, такие утверждения как минимум спорны. Действительно, Солженицын описывал происходящие события взглядом стороннего наблюдателя. Но это не значит, что он не был в них внутренне вовлечен. Ведь если тот же Лев Толстой представил читателю картину Бородинского сражения глазами сугубо штатского Пьера Безухова, это не дает нам право утверждать об отсутствии военного опыта у автора «Войны и мира».
Да и разочарование поверхностным, чисто формальным соблюдением обрядов большинства участников (кроме десяти женщин – именно с ними «начинается подлинный крестный ход») также говорит в пользу уже тогда совершившейся воцерковленности Александра Исаевича.
К этим же годам относится и поразительное признание, высказанное в солженицынском рассказе «Путешествуя вдоль Оки» из цикла «Крохотки»: «Люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли – вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги».
Борьба за церковь
Было бы, впрочем, ошибкой думать, что вопросы веры и неверия создатель «Красного колеса» и «Архипелага ГУЛАГ» поднимал исключительно в своих художественных произведениях. Проблемы церкви «камнем гробовым давят голову и разламывают грудь». Они заставили писателя стать, возможно, против воли, публицистом и общественным деятелем.
В знаменитом «Великопостном письме патриарху Пимену» Солженицын трезво оценивал болезненную ситуацию с религией в Советском Союзе: «Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю – вызволить настоящее, но будущее нашей страны как спасти? – будущее, которое составится из сегодняшних детей». В этой связи он задавался отнюдь не риторическим вопросом о том, «сумеем ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?».
Что же так взволновало писателя? «Мы теряли и утеряли светлую этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетие устаивались наши нравы, уклад жизни, мировоззрение, фольклор, даже само название людей – крестьянами. Мы теряем последние черточки и признаки христианского народа – и неужели это может не быть главной заботой русского патриарха?» Кризис православия (как, впрочем, и других религий и конфессий) был обусловлен внешним управлением: «Церковь, диктаторски руководимая атеистами, – зрелище, не виданное за два тысячелетия».
«Письмо» вызвало живейший отклик – как священнослужителей, так и мирян. В силу цензурных ограничений в Советском Союзе (о которых печаловался и Солженицын) центр дискуссии быстро сместился в русское зарубежье.
Протопресвитер Александр Шмеман назвал письмо «пророчеством». И это не было красивой метафорой – рассматривая послание патриарху в контексте церковной истории, он с сожалением отмечал: «Действительно, трагической особенностью… православия нельзя не признать слабость в нем именно тех, кто поставлен строить и созидать церковь».
Со Шмеманом соглашался и протоиерей Иоанн Мейендорф (который, отметим, нередко с ним полемизировал по другим вопросам). Он также считал письмо «пророческим», справедливо указывая в первую очередь на моральный аспект письма: «Все мы, живущие под крылом свободной демократии на Западе, не имеем права судить тех, кто в Советском Союзе и других тоталитарных государствах несет на верхах ответственность за церковь. Александр Солженицын, который сам провел восемь лет в концлагерях и чье призвание, как писателя-христианина, быть совестью своего народа, этим правом бесспорно обладает». Вместе с тем историк церкви не без оснований (и не без боли) выражал сомнение: «К сожалению, очень маловероятно, чтобы теперешние руководители Русской церкви отказались от пассивности и конформизма».
Появлялись отзывы и в неподцензурной (самиздат) литературе внутри СССР, а также в личной переписке. И зачастую они бывали полемическими. Александр Мень в частном письме Солженицыну «умолял» не публиковать послание, утверждая (как это видно из приведенных выше отзывов), что писатель «не разбирается… в церковной ситуации». Последнее представляется странным, учитывая уже приведенные выше отзывы.
В свою очередь, другой священник, Сергий Желудков, в числе прочего обращал внимание знаменитого писателя на то, что его адресат заведомо лишен всякой возможности отвечать оппонентам. Последнее, по мнению Желудкова, было «нравственной ошибкой». Одновременно Желудков укорял писателя и в «главной ошибке», которую он видел в «полуправде». Ведь «полная правда заключается в том, что легальная церковная организация не может быть островом свободы в нашем строго-единообразно-организованном обществе, управляемом из единого Центра… Отсюда и происходит сегодня все то зло, о котором вы справедливо написали, и все то зло, о котором вы умолчали. Но другого выбора не было».
Солженицын оперативно ответил на возражения Желудкова: «Вы пропустили главный выход, к которому я и призываю: через личные жертвы зримо перевоспитывать окружающий мир». И, парируя возражение по поводу невозможности публичного ответа, добавлял: «Приневоливать к жертвам, конечно, нельзя. Но звать-то можно? Уж почему и звать запрещаете?»
Возвращался писатель к христианской этике и в других своих публицистических работах. Так, статью «Раскаяние и самоограничение», написанную для сборника «Из-под глыб», он начал с цитаты из Блаженного Аврелия Августина: «Что есть государство без справедливости? Банда разбойников», а в самом тексте противопоставлял либеральным и марксистским определениям свободы христианское, которое видел в самоограничении. Ведь именно оно «переключает» человека «с развития внешнего на внутреннее и тем углубляет нас духовно».
Впрочем, проблема религии оставалась значимой и в случае с Солженицыным-художником. Он поднимал ее в самых разных своих произведениях. Для Александра Исаевича важным был не только факт веры, но даже шаг в ее сторону. Даже если таким шагом было толстовство. Вспомним, как один из героев романа «Раковый корпус» Ефрем Поддуев нравственно преображается после чтения рассказа Льва Толстого «Чем люди живы»: «Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить. Как будто что в него вошло и повернуло там. И где раньше были глаза – теперь глаз не было. И где раньше рот приходился – теперь не стало рта».
Собственно, само православие играет знаковую роль в его романах. И не только такая символика и обрядность, как икона, попавшая под перекрестный обстрел русских и немецких солдат, или молитва государя после отречения. Например, генерал от кавалерии Александр Самсонов в «Августе Четырнадцатого» сравнивается с «агнцем семипудовым». А профессор Павел Варсонофьев (одним из прообразов которого, по мнению некоторых исследователей, послужил философ и священник Сергий Булгаков), выступающий в числе alter ego Солженицына, видит знаковый для романа мистический сон с Христом («Март Семнадцатого»).
Неподведенные итоги
Полемика вокруг солженицынского творчества продолжалась и в дальнейшем, и не только в отношении его публицистики. Со временем она стала оценивать наследие нобелевского лауреата в совокупности. Так, священник-реэмигрант, участник Белого движения протоиерей Всеволод Шпиллер вспоминал: «Встречи с ним и чтение его на меня производили сильное впечатление… При встречах с ним и при чтении многих его вещей создавалось впечатление, что он повсюду ищет правду, что поглощен стремлением к ней и хочет служить только ей всем своим оригинальным писательским талантом». Одновременно Шпиллер оговаривался: «Мнение о нем, считающее его «религиозным писателем», и даже выражающим наши, здешних православных церковных людей, мысли и настроения, я нахожу глубоко ошибочным». Церковный писатель обращал внимание, что в христианстве проблемы добра и зла «коренятся в последней, как мы говорим, в духовной, метафизической глубине вещей… в духовной глубине человека», а Солженицын, ставя эти вопросы, оставался в рамках этических категорий.
Двойственным был взгляд на Александра Солженицына и у уже упоминавшегося протопресвитера Александра Шмемана. Священник высоко ценил творчество автора «Архипелага ГУЛАГ», чьи книги были для него «сказочными», излучавшими «зрячую любовь». В своем знаменитом «Дневнике» он утверждал, что «такой внутренней широты – ума, сердца, подхода к жизни – у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого ее нет, в чем-то, где-то – проглядывает костяк идеологии)», а в письме историку и литературоведу Никите Струве не без иронии признавался: «Не рехнулся ли я в своем восхищении Солженицыным». Шмеман удивлялся, как писатель, «плоть от плоти и кровь от крови той России, которая одна сейчас существует реально – России советской. Не дореволюционной и не революционной, а именно советской… всецело этой советской реальности принадлежа, он столь же всецело и полностью от нее свободен».
Для Шмемана появление Солженицына было «чудом». Оно заключалось в том, что священнослужитель в одной из своих многочисленных статей о творчестве Солженицына назвал триединой интуицией: «сотворенности, падшести и возрожденности». Речь в данном случае идет о христианском восприятии мира, его изначальной «положительности» («сотворенность»). Касаясь «падшести», Шмеман не соглашался со Шпиллером: зло у Солженицына из христианского восприятия и переживания «тайны зла» связано с предательством человеком своей человечности. Но одновременно (и тут Шпиллер вновь ошибался) в творчестве нобелевского лауреата, «как и в христианстве, есть неистребимая вера в возможность для человека возродиться, отказ «поставить крест» раз и навсегда на ком бы то ни было и на чем бы то ни было».
Вместе с тем Шмеман видел в солженицынской личности и творчестве некоторые тенденции, чрезвычайно его беспокоившие. Во-первых, появление идеологизма, и, как следствие, «в неизбежности… всякую другую идеологию отождествлять со злом, а себя с добром и истиной». Во-вторых, увлечение старообрядчеством. «Существует некий «русский дух», неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве… Пафос старообрядчества в отрицании перемены, то есть «истории», и именно этот пафос и пленяет Солженицына… Солженицын совсем не ощущает старообрядчества как тупика и кризиса русского сознания, как национального соблазна».
Представляется, что подобное предположение Шмемана не было лишено некоторых оснований. «А мысль об общественном самоограничении – не нова. Вот мы находим ее столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы», – писал Александр Исаевич в уже цитируемой статье «Раскаяние и самоограничение».
Наконец, в «Дневнике» Шмемана читаем: «Пугает этот постоянный расчет, тактика, присутствие очень холодного и – в первый раз так ощущаю – жестокого ума, рассудка… большевизма наизнанку… Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются как пешки».
Подобные утверждения позволили исследователю спора Солженицына и Шмемана протоиерею Георгию Митрофанову заключить, что «Россия, которая становится самодовлеющим истуканом для Солженицына и занимает место церкви – это к тому же еще Россия, никогда не существовавшая, а кроимая, как часто бывает, с идолами, по собственному образу и подобию их почитающих».
И это не последние аргументы как в пользу, так и против писателя… А потому, думается, вопросы и возражения (пускай даже и ошибочные), которые как при жизни, так и теперь заочно, возникают в связи с творчеством Солженицына, не только говорят о его востребованности (еще одна банальная истина!), но и о том, безусловно, значимом месте, которое он занимает в истории современного богоискательства и нужности его книг для тех, кто зачастую непростыми путями идет к вере или уже обрел ее.
В последние дни уходящего года наш город посетила Светлана Всеволодовна Шешунова, доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики Международного университета "Дубна", специалист по творчеству Александра Солженицына. О своем понимании творчества Александра Исаевича и о собственном взгляде на современную Россию она рассказывает корреспонденту "Воды живой".
– Вы много лет занимаетесь творчеством Александра Солженицына. Знакомы ли Вы с Александром Исаевичем лично?
– Нет, я никогда не видела Александра Исаевича, но получила от него однажды очень трогательное письмо: он читал мои статьи о его творчестве и одобрил их. Для меня это было важно, потому что всегда есть сомнение, правильно ли ты понимаешь замысел автора, не нафантазировала ли чего-нибудь. Творчеством Александра Исаевича я занимаюсь давно, и считаю его не оцененным, не прочитанным как следует писателем. Это парадоксальным кажется: какой писатель, казалось бы, имеет большее признание? Он получил Государственную премию, президент приехал к нему домой, чтобы поздравить, его наградили орденом святого Андрея Первозванного... Но очень сомнительно, что даже самая знаменитая его книга – я имею в виду "Архипелаг ГУЛАГ" – каким-то образом нашим обществом осмыслена. Множество вещей, которые там показаны, противоречат тому, с чем нас сейчас призывают согласиться.
– В смысле – цель оправдывает средства?..
– Именно. И как раз в "Архипелаге ГУЛАГ" с такой иронией об этом пишется: "Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха и духовно выродится народ. Зато будут ракеты летать в космос, и раболепствовать будет перед нашей державой передовой просвёщенный Запад". И в другом месте: "И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душою наших полей, лесов и рек, – наплевать! важен результат!! Но это – ложь... не результат важен! не результат, а дух!". Чем Солженицын привлек и покорил, скажем, отца Александра Шмемана, и других по-настоящему глубоких людей? Тем, что "Архипелаг ГУЛАГ" на самом деле книга абсолютно не политическая, это не "книжка про лагеря", а свидетельство о человеческом духе, о том, что с ним происходит в разных условиях. Как он вырастал в страданиях, и как – намного чаще – он растлевался, и не только в лагере, но и по всей стране...
– Кстати, сейчас убедительно доказано, и с экономической точки зрения также, что результаты-то сталинские были... весьма сомнительными.
– Это само собой. Вот показательный случай, приведенный всё в том же "Архипелаге". Один инженер, Васильев, до революции занимался орошением земли в Средней Азии. И еще в 1912 году использовал при этом электрические экскаваторы. После революции его, естественно, посадили, а экскаваторы забросили. А в 1930-е эти старые машины достали и демонстрировали как достижение советской инженерной мысли, освобожденной от эксплуатации и угнетения.
– Солженицын – человек верующий. Занимались ли Вы специально проблемами веры в его творчестве?
– Это вопрос очень сложный, как и вообще вопрос о соотношении Церкви и литературы. В нашем литературоведении есть две тенденции. Одна, в продолжение традиций советского времени, духовную составляющую в литературных произведениях не замечает. Другая выбирает, каких писателей нужно рассматривать в свете христианской культуры, а каких – не нужно.
– Мне кажется, в христианской стране в свете христианской культуры надо рассматривать творчество всех писателей, пусть даже они считают себя атеистами.
– Конечно. Но есть литературоведы, и весьма маститые, которые решительно протестуют против причисления Солженицына к христианским писателям.
– Интересно, почему?
– У него среди героев почти не найдешь верующих. Никто в его произведениях не высказывает правильные православные взгляды...
– Действительно, писатель Солженицын избегает прямой проповеди. Почему? Это ведь так заманчиво...
– Для советской жизни, как вы знаете, были весьма нетипичны верующие, воцерковленные герои. Когда он пишет о жизни дореволюционной – в "Красном Колесе" – там и батюшка появляется, и богослужения показаны. Но, в основном, он писал о другом периоде в истории страны. А из жизни советской Церковь Божия была искусственно изъята. Но образ Божий, как выяснилось, изъят не был. И христианское начало в творчестве Солженицына гораздо глубже, чем внешний показ церковной жизни. У него прослеживается неустранимость образа Божьего в человеке, и он показывает, что всегда у человека есть возможность возрождения. Например, в романе "В круге первом" Иннокентий Володин, избалованный молодой человек, эпикуреец, выбирает смертный путь. Рассказ о нем кончается словами о том, что он поднялся "на высоту борьбы и страдания", причем страдания, выбранного добровольно. Это, конечно, победа духа. Вторая важная тема в творчестве Солженицына – тема Божьего Промысла. В том же "Архипелаге ГУЛАГ" он пишет о самом себе: "Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег – так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел". Какое же "море" его выбрасывало? Конечно же, воля Божия! Лежа в лагере после операции – как выяснилось, неудачной, – Солженицын написал такие стихи:
Да когда ж я так допуста, дочиста
Все развеял из зерен благих?
Ведь провел же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Он-то был крещен и воцерковлен в детстве (его первое воспоминание – как красноармейцы входят в храм во время службы и начинают его громить). Стихотворение длинное, а заканчивается оно так:
И теперь, возвращенною мерою
Надчерпнувши воды живой,
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной...
Вот важная мысль – что Бог не отрекается от человека, даже когда человек Его забывает. Еще одна болезненная проблема в связи с творчеством Солженицына – это проблема лжи. Она у нас так и не решена, и не только в связи с репрессиями, о чем мы только что говорили, но и в связи, например, с Великой Отечественной войной. На теме этой войны строится сейчас все так называемое патриотическое воспитание. И я задаюсь вопросом: те люди, которые давали Солженицыну Государственную премию, открывали страницы "Архипелага ГУЛАГ", где говорится об этой войне?
– Думаю, открывали, но много лет назад. Большинство людей старшего поколения прочитали "Архипелаг ГУЛАГ" в те времена, когда он расходился в самиздатовских списках, и счастливые владельцы этих изданий давали другим почитать, к примеру, на одну ночь. Ни о каком внимательном, вдумчивом чтении речь не шла.
– Да, наверное, Вы правы. Поэтому и продолжают говорить, что все как один встали на борьбу с Гитлером. Но вот какие дерзкие слова Солженицын в "Архипелаге" пишет: "Возьму на себя сказать: да ничего бы не стоил наш народ, был бы народом безнадёжных холопов, если б в эту войну упустил хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству". Речь здесь идет о власовской армии, о сотнях тысяч советских солдат и офицеров, которые решились временно сотрудничать с немцами – ради достаточно безнадежной попытки избавить Россию от большевизма. И вот эта тема – сложная, трагическая – у нас всерьез практически не обсуждается. А Солженицын и в "Архипелаге ГУЛАГ", и в пьесах "Пир победителей" и "Пленники" очень подробно рассматривает мотивы тех, кто вступил в армию Власова. И делает вывод: "Во всяком случае, движение это было куда более народным, простонародным, чем всё интеллигентское "освободительное движение" с конца ХIХ века и до февраля 1917, с его мнимо-народными целями и с его февральско-октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться, а погибнуть позорно с клеймом: измена священной нашей Родине!" В осмыслении истории нужна честность: учитывайте, что и таким был выбор немалой части русского народа, особенно крестьянства и казачества... Но миф о единении удобнее.
– Светлана Всеволодовна, а о чем Александр Исаевич писал лично Вам?
– О том, что Россия почти не прочла его, и особенно – "Красное Колесо". Действительно: в школе проходят "Один день Ивана Денисовича", но ведь это раннее, далеко не главное произведение. Представьте, если бы о творчестве Пушкина люди судили только по стихотворению "Воспоминания в Царском Селе"!
– Есть ли у Александра Исаевича какие-нибудь прогнозы о будущем России?
– Судя по интервью, он считает, что в последние годы Россия встала на ноги, достигла большого влияния в мире, и главная у нас проблема – разрыв между богатыми и бедными. Вот тут я с великим писателем согласиться не могу, потому что на ноги мы встанем тогда, когда твердо скажем, что события 1917 года – это духовная катастрофа. И сделаем из этого решения практические выводы. А то у нас даже центральные улицы в большинстве городов носят имя Ленина и главных ленинцев. Уже по названиям видно, что мы до сих пор предпочитаем оставаться наследниками создателей ГУЛАГа. И жители противятся переименованию.
– Да, и высказываются аргументы, что это нерентабельно: надо менять людям документы, переиздавать карты, а это огромные деньги.
– Вот видите: правда Божия нам не важна. Нам не важно, что улицы названы именами тех, кто убивал людей, прославленных Церковью в лике святых. Нам важно, чтобы по сто рублей не взяли из наших кошельков... Юристы в очередной раз отказались реабилитировать царственных страстотерпцев – разве это не абсурд? Станция метро в Москве носит имя их убийцы-Войкова – и никого это не волнует, хотя большинство русских людей называют себя православными. Так и получается: храмы мы восстанавливаем, а при этом и юридически, и нравственно сохраняем преемственность с теми, кто объявил войну Богу и образу Божьему в человеке. Я убеждена, что это и есть главная духовная причина наших нынешних нестроений. А вот Александр Исаевич, видно, не считает эту проблему существенной. Можно, конечно, сказать: зачем ворошить советское прошлое? Мало ли новых, современных забот? Но ведь сам Александр Исаевич когда-то писал, что, отказываясь осудить такое прошлое, мы нравственно губим и новые поколения: "Оттого-то они равнодушные и растут, а не из-за "слабости воспитательной работы". Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие. И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить!" Теперь он не придает этой связи времен значения, а жаль. Но даже если я и не согласна с позицией Солженицына последних лет, мне кажется, важнее его романы и рассказы: в веках останутся книги, а не интервью.
– Вы много говорили о том, как Солженицына воспринимают, вернее, не воспринимают, в России. Отличается ли отношение к нему за границей?
– Летом я была в Америке, в Иллинойсе, на конференции по Солженицыну. Меня там поразил один из докладов. Профессор из одного университета в Нью-Йорке говорила, что американские студенты воспринимают Солженицына как человека, который помогает им в повседневной жизни делать нравственный выбор. На этой конференции выступали американские политологи, которые с большим уважением говорили о том, что Солженицын показывает неустранимость нравственного выбора в любой ситуации: в "Архипелаге ГУЛАГ" женщина просто режет на кухне хлеб – и перед ней стоит выбор, честно ей его резать или отложить что-то себе. А это выбор между жизнью и смертью.
– То есть, в Америке Солженицын – более прочитанный, более воспринятый автор?
– Безусловно. Да это просто по изданиям видно. Там, например, вышла толстая, больше 600 страниц, антология, где представлены все основные произведения Солженицына: небольшие полностью, а крупные в отрывках. Очень качественный перевод на английский язык. Это замечательно! Какой средний читатель одолеет десять томов "Красного Колеса"? А так он познакомится с отрывками и будет хотя бы иметь представление... У нас вот таких изданий нет...
Светлана Всеволодовна Шешунова родилась в 1964 г. в Дубне (Московская область). Закончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор филологических наук, работает в должности профессора на кафедре лингвистики университета "Дубна". Докторская диссертация посвящена национальному образу мира в русской литературе. Автор монографий: "Образ мира в романе И.С.Шмелёва "Няня из Москвы"" (2002), "Национальный образ мира в эпопее А.И.Солженицына "Красное Колесо"" (2005).
Своими воспоминаниями о писателе с порталом Патриархия.ru поделился протоиерей Николай Чернышёв, клирик храма в честь святителя Николая в Кленниках, на протяжении нескольких последних лет бывший духовником семьи Солженицыных.
— Александра Исаевича Солженицына провожали в последний путь в соответствии с православной традицией. Скажите, пожалуйста, каков был путь писателя к вере?
— Я бы хотел отослать к книге Людмилы Сараскиной, посвященной Александру Солженицыну, которая недавно вышла в серии «Жизнь замечательных людей». В этой книге биография писателя описана наиболее полно и трезвенно.
Александр Исаевич рос в православной, глубоко верующей семье и с самого начала осознавал себя православным христианином. Это были годы воинствующего атеизма, поэтому в школе у него были проблемы с одноклассниками и учителями. Естественно, ни в пионерию, ни в комсомол он не вступал. Пионеры срывали с него крестик, но он каждый раз надевал его заново.
В то время в Ростовской области (Ростов-на-Дону), где родился и жил в то время писатель, один за другим закрывались храмы. К моменту его взросления в округе уже не осталось действующих храмов на сотни верст от Ростова. В то время идеи марксизма и ленинизма навязывались, как мы знаем, не просто активно, а агрессивно. В учебных заведениях было необходимо изучать «диамат». Молодой человек, Саша Солженицын увлекся марксизмом, диалектическим материализмом, и это вошло в противоречие с его детским верованием. На неокрепшую душу было взвалено что-то непосильное. В то время многие под этой ношей ломались.
Как рассказывал Александр Исаевич, это был период мучительных сомнений, отвержения детских верований и боли. Он видел, что не было правды в том, что творилось вокруг него. Но теория, гладко выраженная в книгах, прельщала.
По-настоящему возвращение к Богу и переосмысление произошло даже не на фронте, а уже в лагерях, после войны. В эти самые тягостные моменты его жизни вспомнилась та «закваска», которая была дана матерью, в семье. Поэтому нельзя говорить, что его приход к вере был резким и неожиданным. Вера передавалась в его семье из поколения в поколение, и она оказалась сильнее.
Ту перемену, которая произошла с Александром Исаевичем в лагерях, он описал в своем стихотворении 1952 года «Акафист». В искренней, поэтической форме он рассказывает о той ломке, о том, что происходило в его душе в период этой перемены:
Да когда ж я так допуста, дочиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провел же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились — постижными,
Жребий жизни — податлив как воск.
Кровь бурлила — и каждый выполоск
Иноцветно бурлил впереди, —
И, без грохота, тихо, рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освящён её каждый излом —
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь, возвращенной мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной…
— Сам Александр Исаевич говорил о себе, что он «не специалист в церковных вопросах». Какие стороны церковной жизни его интересовали?
— Он, конечно, не был «церковным человеком» в том смысле, что не интересовался канонами церковными, строем богослужения, устройством той или иной внешней стороны церковной жизни. Это была жизнь души. Жизнь как молитва и как исполнение Евангелия. Но о чем он страдал и переживал, если говорить о сторонах жизни Русской Церкви, — так это о том, что Церковь находится в подавленном состоянии. Это для него было открыто, явно, обнажено и болезненно. Начиная богослужениями, все более и более становящихся непонятными и совершающимися отдельно от народа, и заканчивая все меньшим участием Церкви в жизни общества, в окормлении молодежи и людей старшего возраста. Его интересовало, как должна строиться жизнь Церкви в соответствии с Евангелием.
Его волновала проблема единства Церкви. Это то, о чем не может не болеть сердце верующего человека. Александром Исаевичем это было прочувствованно как личная боль. Он видел, что церковные разделения, конечно, сказываются и на обществе. Раскол XVII века он воспринимал как неизжитую проблему. Он относился чрезвычайно уважительно к старообрядцам, видел, как много правды и в них. И переживал, что нет настоящего единства, хотя каноническое общение соблюдено.
Все проблемы любых разделений в церковной жизни переживались Александром Исаевичем чрезвычайно болезненно.
— Сейчас многие вспоминают знаменитое «Великопостное письмо» писателя Патриарху Пимену (1972 г.) и говорят о том, что Солженицын ждал и требовал от Церкви более активного участия в жизни общества. Каковы были его взгляды на этот счет в конце жизни?
— Александр Исаевич сам был из тех людей, кто не мог молчать, его голос постоянно был слышен. И конечно, он был убежден в том, что слова Спасителя «Идите проповедуйте Евангелие всей твари» должны исполняться. Одно из его убеждений, его идея была в том, что Церковь, с одной стороны, безусловно, должна быть отделена от государства, но при этом ни в коем случае не отделена от общества.
Он считал, что это совсем другое, что это — прямо противоположные вещи. Неотделенность от общества должна проявляться все более и более. И здесь обнадеживающие перемены последних лет он не мог не видеть. Он с радостью и благодарностью воспринимал все позитивное, что происходит в России и в Церкви, но был далек от успокоенности, потому что за годы советской власти все общество стало искореженным и больным.
Он понимал, что если больной будет вести больного или хромой хромого, добра не жди. Та активность, к которой он призывал, та неотделенность от общества ни в коем случае не должны выражаться в насильственном, подавляющем строе мыслей и действий, привычных для советского времени.
Церковь, считал он, с одной стороны, призвана вести общество и более активно влиять на общественную жизнь, но это ни в коем случае в наши дни не должно выражаться в тех формах, которые были приняты в идеологической машине, которая ломала и корежила людей. Ситуация изменялась в последние годы. И он не мог не чувствовать новых опасностей.
Однажды его спросили о том, что он думает о той свободе, ради которой он боролся, как он относится к тому, что происходит. Он ответил одной чеканной фразой: «Свободы много, правды мало». Эту опасность подмены он прекрасно чувствовал и поэтому был далек от успокоения.
Когда он вернулся на Родину и стал путешествовать по России, ему открылось все ее бедственное положение. И это касалось не только экономической стороны, но и ее духовного состояния.
Он, конечно, видел принципиальную разницу между тем, что было в 30-е, 50-е года, и сегодняшним положением вещей. Он не был диссидентом, который все время ко всему в конфронтации. Это не так. Есть люди, которые пытаются его таким представить. Но он таким не был. Всегда, несмотря на обнажение им вот этих ужасных ран общества, видна могучая жизнеутверждающая сила в том, что он писал и делал. В нем был позитивный, жизнеутверждающий и светлый настрой христианина.
— А.И. Солженицын был одним из выдающихся мыслителей прошлого века в России. Скажите, не возникало ли в его душе противоречия между разумом и религиозным чувством?
— Противоречие имело место в годы его юности, начиная со старших классов школы, во фронтовые годы. Это было время, когда все храмы были закрыты, и посоветоваться было не с кем, когда церковная жизнь была почти абсолютно уничтожена большевистской машиной репрессий. Тогда противоречие было. В лагерях началось именно возвращение к истокам веры, возрождение чувства ответственности за каждый шаг и каждое решение.
Конечно, Александр Исаевич был неоднозначным человеком. О нем будут спорить и должны спорить. С личностью такого масштаба и такой величины иначе и быть не может. Этот человек не просто повторял за кем-то заученные мысли, но шел к евангельской правде путем собственного поиска.
Святейший Патриарх в слове, которым он почтил Александра Исаевича на отпевании, процитировал евангельскую заповедь из Нагорной проповеди: «Блаженны изгнанные правды ради». Это касается долгих и тягостных страниц жизни Александра Исаевича. Ко всей его жизни — от школьных лет до последних дней относятся также слова Спасителя: «Блаженны алчущие и жаждущие правды яко тии насытятся». Конечно, мы делаем акцент на первой части этой фразы. Но я видел, что он испытывал блаженство и духовное насыщение, возможное в этой земной жизни, и радость в его последние дни приходила к нему за исполнение им своего призвания.
Он говорил: «Если бы я сам выстраивал свою жизнь по собственному плану, то она вся бы состояла из ужасных ошибок. Сейчас мне это видно. Но Господь все время поправлял и перестраивал мою жизнь, иногда незримым, иногда очевидным образом. Сейчас я вижу, что все сложилось так, что лучше и быть не могло». Это слова глубоко верующего человека, благодарного Богу и принимающего с благодарностью все то, что Господь ему посылает.
— Можно ли было назвать Александра Исаевича прихожанином какого-либо храма? Часто ли он бывал в церкви?
— Когда мы познакомились с Александром Исаевичем, он уже болел и почти не выходил из дома. Когда семья Солженицыных вернулась в Россию, Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна пришли к нам в храм, познакомились с духовенством и прихожанами. После этого Наталья Дмитриевна стала часто приезжать и просить приехать поисповедовать, пособоровать и причастить ее супруга в их доме в Троице-Лыково.
Такая наша форма общения была связана только с тем, что у Александра Исаевича уже не было сил и возможности самому приезжать на службы. Надо сказать, что я бывал у них регулярно, а не от случая к случаю.
— Какие у Вас как у священника и духовника останутся воспоминания об усопшем?
— Больше всего в нем поражала простота и безыскусственность. В их семье всегда царила удивительная нежность и забота друг о друге. Это тоже является проявлением его христианского отношения к близким, выстраивание дома малой Церкви. Вот это по-настоящему поражало. Безыскусственность, простота, чуткость, бережность, внимательное отношение — все это было свойственно Александру Исаевичу.
В то время, когда мы с ним познакомились, он задавал вопрос самому себе — вопрос, ответ на который раньше был для него очевиден: что надлежит ему делать. Он говорил: мне кажется, я исполнил все, мне кажется, что мое призвание исполнено; я не понимаю, зачем я оставлен. Все то, что считал для себя необходимым сказать и написать, — все сделано, все труды опубликованы. Что дальше? Дети выросли, он дал им настоящее воспитание, в семье присутствует устроенность, какой она должна быть. И в этой ситуации пришлось напомнить ему, что если оставляет Вас в этом мире Господь — значит, в этом есть некий смысл, и Вы, пожалуйста, молитесь об этом, о том, чтобы понять, зачем даровано это время. И потом, когда прошло некоторое время, он сказал: «Да, я понял, это время было дано мне для себя самого — не для работы внешней, но для всматривания в самого себя».
Об этом он говорил в одном из своих интервью: старость дана человеку для того чтобы всмотреться в самого себя, чтобы оценивать, переосмысливать и все более строго относиться к каждому мигу своей жизни.
При этом подобные мысли были не бесплодным самокопанием, они служили основанием для посильного служения даже в последнее время. Будучи уже немощным человеком, он, тем не менее, не позволял себе никакой расслабленности или беспечности. Он строго планировал свое расписание до последнего времени. Вместе с таким строгим графиком работы он старался принимать людей. Многих и многих, совершенно из разных кругов. И старался не оставлять без ответа — в личной беседе или письменно — каждого, кто к нему обращался.
Его многие называли и называют сейчас затворником, говорят о том, что якобы он уединился и ни в чем не участвовал. Это не совсем так. К нему приходило множество людей, многие обращались за помощью.
То, что его отпевали по православному чину, не есть просто дань традиции. Это свидетельство того, что свою земную жизнь завершил человек, по-настоящему служивший Христу и Его Церкви.
Беседовала Мария Моисеева
Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв. Дунаев Михаил Михайлович
Александр Исаевич Солженицын
Александр Исаевич Солженицын
В 1952 году Александр Исаевич Солженицын (р. 1918) написал стихотворные сроки, через которые можно осмыслить всю его жизнь:
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещён её каждый излом -
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь, возвращённою мерою
Надчерпнувши воды живой, -
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной…
Бытие Солженицына в русской культуре не может быть осознано вне действия Промысла Божия. Разумеется, и во всякой жизни действует промыслительная воля Творца, но Солженицын не просто был ведомым этой волей, но сумел сознательно ей следовать. Это дало ему силы выдержать тягчайшие испытания, и малой доли которых достаточно было бы, чтобы сломить натуру, не опирающуюся на подлинность веры.
Солженицын стремительно обозначился в литературе, возвысившись в ней сразу, резко. Появление "Одного дня Ивана Денисовича" (1962) стало рубежной вехой в её истории: теперь всё разделилось в ней, на до и после этой повести. Само вхождение Солженицына в литературу показало как действует Промысл: в соработничестве с человеком. Конечно, не политбюро, не Хрущёв создали возможность публикации "Одного дня…" - они лишь выполнили то, что было определено Промыслом. Но… Была создана возможность, была и ответная готовность. Мог ведь победить здравый смысл: зачем силы класть на то, чего не только не напечатать, а и показывать страшно, и хранить небезопасно. И создалась бы возможность, да ответить бы нечем было. Нужна была сильная воля, чтобы одолеть то «здравое» внутреннее нашёптывание, и она ответила воле Творца.
Солженицын вошёл в литературу и сразу стал в ней классиком. Ему уже не было нужды вырабатывать своё художественное своеобразие, искать и выстраивать систему идей, потому что уже остались позади все муки становления.
Весь корпус его произведений есть единое целое с нераздельной системой ценностей; нужно и осмыслять это единство недробно, насколько это доступно анализу вообще (он ведь: хочешь-не хочешь, а раскладывает на части исследуемое - и не может без того). Это не значит вовсе, что писатель закоснел в своих убеждениях. В отличие от многих, Солженицын как раз умеет признавать прежние ошибки, имеет мужество говорить о них открыто, избавляться без сожаления. Но и в этом проявляется всё та же цельность его, которую не нам дробить.
Прежде всего, Солженицын отверг идеал эвдемонической культуры. "Счастье - это мираж", - утверждает один из персонажей "Ракового корпуса", Шулубин, и автор, несомненно, многое из своего ему доверил. "А тем более ещё так называемое "счастье будущих поколений". Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями разговаривал - каким ещё идолам они будут поклоняться? Слишком менялось представление о счастьи в веках, чтобы осмелиться подготовлять его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлебываясь молоком - мы совсем ещё не будем счастливы. А делясь недостающим - уже сегодня будем! Если только заботиться о «счастьи» да о размножении - мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество…"
Вот приговор - не только "коммунистическому созиданию", но и идеалу "рыночного благоденствия". В подоснове здесь ощущается то же не собирайте сокровищ на земле…
Однако пишет Солженицын не о едином на потребу, а о земном - ищет основу для достойного пребывания в этой жизни. В том, конечно нет ничего дурного, все мы вовсе не избегаем забот. Только всегда имеется здесь опасность перекоса интересов, увлечённость чрезмерная земным, хоть бы и высшего порядка. Нравственность ведь тоже сокровище земное, не забудем.
Забегая вперёд, уже в самый конец века, обнаруживаем, что уже тогда, как на главную цель указывает писатель на сохранение русского народа и русской государственности. Не заглядывая пока дальше, остановимся на этом. Народ - государство… Государство - народ…
О соотношении между этими сущностями писатель заставляет размышлять нас мучительно в романе "В круге первом". Ведь невидимый мотор всего движения событий (лучше: почти всего) - государственная измена одного из центральных персонажей, молодого дипломата Иннокентия Володина.
Это вообще больная проблема всего диссидентского движения 70-80-х годов. Не бьёт ли борьба против государственной власти больнее как раз по народу? Власть в бетонном убежище отсидится, а бомбы на голову кому прежде упадут?
И всё же: защищая свою землю в Отечественную войну, народ и Сталина защищал, своего же палача, сдваивая понятия: "За Родину, за Сталина!". (А раньше не так: "За царя и Отечество"? Нет, не совсем так: ещё и "за веру" было.) Не надо было "за Сталина"? А как разделить? Повернув штыки против Сталина, тем и против собственного народа поворачивать приходилось. Большевики ведь так и решили когда-то: воевать против правительства помещиков и капиталистов (кровопийц народных) - и Россию сгубили.
Большевики в своё время всю эту диалектику проблемы тоже сознавали, и решение нашли: всё должно поверять некими высшими истинами. Иной вопрос, что признать за истину. Для большевиков это были "интересны революции", но не все же с ними согласны. Вот где подлинный тупик: если не будет абсолютного критерия, все поиски и споры - обречены.
Для Солженицына (и его персонажей, вслед за ним идущих) борьба против Сталина несомненно верна. Поэтому в романе измена Володина не есть для автора нравственная компрометация персонажа.
Володин пытается «отнять» у Сталина бомбу (то есть не дать выкрасть её секрет у американцев), потому что бомба эта в руках Сталина может обернуться всеобщей гибелью.
Вывод - это государство отвратительно в своей сущности и борьба с ним необходима. Такому ли государству бомбу давать?
Простой мужик, дворник Спиридон, искалеченный этой властью, системой, передовым строем, мыслит жестоко. Он готов на голову всего народа бомбу накликать, только чтобы "Отец Усатый" в живых не остался. И это как решительный аргумент в защиту предательства: это - глас народа.
Но ведь так же рассуждали и "борцы с проклятым царизмом"! Пусть погибну, но другие счастье узрят! И так же большевики кричали (а потом Мао, Сталин китайский): пусть миллионы погибнут, а оставшиеся вкусят блаженства на земле. Одно сомнительно: узрят и вкусят ли? А вдруг те, у кого бомба есть уже, её тоже во зло употребят? Но тогда всё ведь рушится? Ради чего так радеть о слабости России перед Западом? Как можно отдавать Западу роль высшего арбитра? И Володин всё-таки предатель. И ничего не стоят все его прозрения, как бы ни верны были они сами по себе. Тупик.
И есть ли выход из этого тупика? Разрешима ли сама проблема отношения к тирании вообще? Что ей противопоставить?
Вера отвечает: смирение и существование по правде Божией. Писатель позднее (в "Архипелаге") признал: и кара Божия - ко благу человека. Значит, смирись и не призывай бомбы. Тем более на рядом пребывающих. Иначе чем ты лучше будешь того же тирана? Он твоею жизнью завладел, а бомба призванная чем лучше?
Но смирение не будет ли соучастием во зле? И вновь пошла мысль по кругу.
Смирение есть следование воле Божией.
Но как её познать?
- Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Надо не бомбу накликать, а сердце очищать. Что познает копающийся в грязи своей душевной? Свою грязь только. Внутреннее очищение необходимо, а не бомба. А для этого вера необходима.
Всё мы выходим к одному и тому же. Иначе обречены ходить по кругу - без выхода.
Выход один: обратиться духовно к Промыслу, о нём вспомнить. По сути, Нержин, центральный персонаж романа, отрекаясь от благополучия «шарашки» и обрекая себя на более глубокие круги лагерного ада, это и совершает: отдаёт себя воле промыслительной. Автор лишь намекает на эту важнейшую мысль, но у него иная забота: о более злободневном, быть может, для времени написания романа. Надо ведь было и сознавать: открыто бороться с тем же Сталиным (и с его наследниками) невозможно. Но что делать? Промысл ждёт от человека проявления его воли. Нельзя бездейственно ждать, когда всё рухнет само собой. Но что делать?
Солженицын предложил тогда разумный компромисс: жить не по лжи. То есть от правды не отрекаться ни при каких условиях. Такова программа писателя.
Он не прибавил лишь: так Бог велит. Ведь для безбожного общества в основном говорил. А недоговорённость осталась на все времена.
Чтобы жить не по лжи, надо вызнать эту ложь.
Осмысление коммунистической идеи - одна из центральных задач в творчестве Солженицына. Ему важна и сама идея, и её носители. Впрочем, верящих в чистоту и подлинность идеологии немного. Большинство присасываются к ней, каждый по собственной корысти.
Даже Сталин. Его интерес в истории - упрочение идеи своего величия. А попросту банальное самоутверждение натуры, изначально придавленной ощущением некоей неполноценности себя в жизни. Сталин живёт у Солженицына в измышленном мире, мало имеющем общего с реальностью.
Впрочем, идейные коммунисты не могли не понимать необходимости дать вместо храма Божия какую-то замену для проявления религиозной потребности в человеке, да и нравственность укрепить тем. Поэтому Рубин, пребывая в своей шарашке, составляет величественный проект нового храмового строительства. В его построениях не только Христа нет, но и абстрактного культа быть не может: всё омертвлено до предела в расчёте на одну лишь обрядовую сторону и строгую нормативность. Вот «религия» коммунистической идеологии. Можно ещё проводить аналогии с различными идеями авторов всевозможных утопий, но не лучше ли признать, что зачатки этих идей осуществлялись в практике советской жизни. Недаром же неосуществлённый Дворец советов был замыслен на месте разрушенного Храма Христа Спасителя. Недаром же и дворец культуры московского автозавода возвёлся на месте уничтоженного Симонова монастыря. И недаром мёртвая обрядовость создавалась для различных советских мероприятий.
О причине уже много раз говорилось, есть о том и у Солженицына в словах Нержина: "Ведь весь и всякий социализм - это какая-то карикатура на Евангелие".
Обстоятельства влияли на судьбу человека, но не на основу характера: её определяли некие глубинные свойства натуры. Так утверждает писатель ту истину, которая открылась ему через тяготы выпавших испытаний (а христианство всегда знало): граница между добром и злом проходит через сердце человека.
Выходит, участь стать Сталиным, выпавшая одному человеку, могла едва ли не каждым быть выбрана: по внутреннему тяготению. Даже если обстоятельства не помогли реализовать то, к чему склонность живёт, Сталина в себе необходимо подавлять. И жить не по лжи.
Но есть ли у Солженицына в его художественных произведениях какое-то начало, несущее в себе полноту православной Истины?
Пора осмыслить изображение народа и понимание проблемы народа писателем. Ибо где ещё искать это религиозное начало? Достоевский утверждал: русский народ - богоносец. А Солженицын?
А Солженицын считает, что судить о народе должно именно по свойствам тех человеков, из которых народ составляется. Вот один из них - дворник Спиридон (тот, что на голову Сталина, и собственную, и ещё миллиона соотечественников бомбу призывал).
В Спиридоне действует некая стихийная нравственность. Но какова её природа и питающий источник во все времена? Сказать, что она просто сложилась на протяжении многих веков существования народа, - значило бы оказаться в полушаге от марксизма. А если признать, что она религиозна по природе, что именно Православие на протяжении этих веков не давало ей засохнуть и отмереть, то надо и сказать, что вне веры всё очень скоро рухнет, задерживаясь по инерции у того поколения, которое ещё ухватило остатки веры от отцов. Кажется, автор уповает на некое непогрешимое нравственное чувство, какое живёт в том же Спиридоне: "Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает всё - неоплошно". Но это самое уязвимое место. Он-то был уверен, а вдруг оплошал хоть в чём-то уже? В том же рассуждении о бомбе, к примеру…
Есть ли вера в этих людях? Такой же Спиридон, только зовущийся Иваном Денисовичем Шуховым, вспоминает о Боге при сильной нужде, но редко:
"И тут же он остро, возносчиво помолился про себя: "Господи! Спаси! Не дай мне карцера!"
По пословице "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
Шухов же может и по привычке восславить: "Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!" Но на слова Алёшки-баптиста отвечает не без скепсиса:
"Услышал Алёшка, как Шухов вслух. Бога похвалил, и обернулся.
Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даёте, а?
Покосился Шухов на Алёшку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул.
Потому, Алёшка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или "в жалобе отказать".
И вообще незаметно, чтобы молились русские православные, а если вдруг выделится кто, то особый:
"Там, за столом, ещё ложку не окунумши, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали.
А русские - и какой рукой креститься, забыли".
Писание во всём бараке шуховском один лишь читает." тот самый баптист Алёшка (а кроме сектанта и верующих не осталось? выходит так), он и разговоры ведёт о вере. Текст ему, правда, выбрал автор для чтения приметный, как освящающий всё лагерное сидение:
"Баптист читал Евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание (может, для Шухова нарочно, они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков):
Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь".
Читает баптист не Евангелие, а Апостольское Послание (1 Пет. 4, 15–16), но для Шухова нет разницы. Однако текст Писания высвечивает насквозь: а ради чего сидят эти люди здесь? Нет, большинство вовсе не как злодеи, но ведь и не во имя Христово, но ради своей «родины» и своей «религии» - семьи да земли. Не в осуждение это скажем (мерзко, грешно тут осуждать), а просто отметим как данность.
Народ предстаёт у Солженицына какою-то полуязыческой массой, не вполне сознающей свою веру. Вот праведница Матрёна, без которой и "вся земля наша" не выстоит. А её вера какова? Весьма неопределённа она. В чём же праведность Матрёны? В нестяжательности. Может, жила просто по душе, проявляя природную её христианскую суть? А может, не так и важно, есть вера, нет ли - был бы человек хороший и жил бы не по лжи? Нет, сам Солженицын такому пониманию противится.
Рассказ "Случай на станции Кочетовка", помещённый под одной новомировской обложкой с "Матрёниным двором", не был, кажется, должно оценён в своё время: все критики тогда дружно на Матрёну кинулись. А в рассказе том писатель дерзнул на задачу из труднейших: показать положительно прекрасного человека. И, действительно, дал поразительный образ праведника, не уступающего и Матрёне.
Лейтенант Вася Зотов, главный персонаж рассказа, - нестяжатель, аскет в быту, душой за дело болеющий: без таких… ну, не земля, но дело хотя бы нужное - не стоит. Вокруг - больше о своём пекутся, не о всеобщей нужде. Он готов на жертву ради всеобщего. Вася совестлив, чист, и в малом не согрешит. Оставленной под немцами жене хранит верность, сопротивляясь в том давлению окружающих. Не заедает его среда. Его уж и соблазнить пытаются в открытую бойкие женщины - он не может пойти против себя.
И вдруг случай. Беззащитный человек, доверившийся Зотову, обрекается им, этим положительно прекрасным героем, на гибель в бериевском лагере. Да, там будет зверствовать лейтенант Волковой, но отдаст человека в его власть - чистый мальчик лейтенант Зотов. По злобе? Нет, нет, заботясь всё о том же высшем благе.
Вася Зотов служит Революции (именно так, с большой буквы: это его божество). Он служит "делу Ленина", он служит злу и сотворяет зло, даже не догадываясь о том (только совесть глухо точит душу). Оказывается, зло может исходить и от хорошего человека. Потому что небезразлично для всякого, какова его вера. Вера ложная закрывает истинное различие между добром и злом, и человек оказывается беззащитным: творит зло. Таков праведник Вася Зотов. Вспомним у Достоевского: совесть без Бога может дойти до самого ужасного.
А истинная вера среди народа - в небрежении. Символом становятся для Солженицына разорённые по всей земле храмы. Не только время да стихия - сам народ разорял (и разоряет сегодня) Божии храмы. Никуда не уйти от этой жестокой правды.
Но если так, то для чего же все призывания "жить не по лжи"? К кому? К тем, которые всё топчут? А они спросят: а зачем "не по лжи", если так удобнее, легче и приятнее? Они ведь вперёд не смотрят.
Нравственность - хорошо, да откуда её взять?
О нравственности многие у Солженицына говорят. О справедливости, о совести душа у людей болит. Но тут без веры не обойтись, и без истинной веры.
Зачем она нужна? Да чтобы была хотя бы единая точка отсчёта, без которой лжи и правды не распознать и жить порой по лжи: как Вася Зотов. Люди начнут, произнося одни и те же слова, говорить на разных языках, не понимая друг друга: каждый будет разуметь своё и как убедить, что нельзя так? А что так уже есть у Солженицына показано прекрасно. При отсутствии веры более надёжным представляется большинству не нравственное, а рациональное начало.
Но рационально можно оправдать что угодно, обосновывая любое злодейство. Человек становится песчинкой в распоряжении безличной случайности, равнодушной к человеку. Интеллект и не может выше подняться.
Замыкаясь на проблемах сугубо нравственных или рассудочных - тупика не избежать. Гораздо глубже, чем в романах, зачерпнул писатель в многотомном труде своём о сталинских лагерях.
Создание художественного исследования "Архипелаг ГУЛАГ" - подвиг писателя.
Жанр определён верно: по охвату материала, по многомерному осмыслению его, во всех подробностях, книга есть историческое и социологическое исследование, подсильное лишь немалому коллективу; а по образному видению жизни она поднимается до эстетических высот, не всякому художнику доступных.
Смысловым центром всей работы видится нам её четвёртая часть "Душа и колючая проволока". Здесь все нити сходятся, стягиваясь в узлы, здесь устанавливается та высшая для писателя точка, с которой он осматривает всё пространство, отображённое им.
У Солженицына названия всегда удивительно точны. Вот и теперь важнейший вопрос обозначен: какова судьба души в жестокости неволи? И что поможет душе, уцелеть, себя сберечь от того страшного, что её даже скорее тела подстерегает?
Писатель утверждает, что путь заключённого может стать путём нравственного восхождения. Сами испытания он начал воспринимать, как указующие воздействия некоей высшей воли, необходимые для не всегда умеющего вызнать истину рассудка.
Чья воля направляет человека? Такой вопрос не может не возникнуть, автор задаётся им также. Он вспоминает свой разговор в лагерной больнице с одним из врачей-заключённых. Тот утверждал: всякое наказание, даже если оно имеет неверную причину, справедливо, поскольку "если перебрать жизнь и вдуматься глубоко - мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар". Но ведь этот именно довод когда-то возник у друзей многострадального Иова и был отвергнут как неистинный Самим Богом. Бог направил мысль праведника к необходимости принять Его волю без рассуждений - с верой. Это единый универсальный ответ человеку во всех его сомнениях, и речь идёт, хотя слово и не названо, о Промысле.
Солженицын приводит к осознанию необходимости религиозного осмысления бытия - всё иное лишь уводит в сторону от истины. Жестоким опытом он обретает эту истину, о которой сказано ещё в Писании и о которой всегда предупреждали Святые Отцы в поучениях, в молитвах. Но истину всегда вернее укрепить собственным опытом. Постижение такой истины становится бесценным результатом (но не материальным, о котором прежде шла речь), который был обретён художником. Обретён тяжкой ценою.
"Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:
- Благословение тебе, тюрьма!"
Взгляд на мир становится многомерным.
Даже если бы от всего написанного Солженицыным уцелело одно лишь это место, как осколок громадной фрески, и тогда можно было утверждать: это создание мощного таланта.
Здесь возникает противоречие; и как у Твардовского: "Я знаю, никакой моей вины,…но всё же, всё же, всё же!" I Разрешить противоречие можно лишь, если время переходит для человека в вечность. Иначе всё бессмысленно. И благословение тюрьме обернётся насмешкой над погибшими. Потребность в бессмертии возникла вовсе не от жажды ненасытных людей в погоне за наслаждениями, как полагал не знавший христианских истин Эпикур. Она рождается жаждою обрести смысл в бытии, выходящем за рамки материального мира.
Материальный мир требует своего. И другой писатель-лагерник, Варлам Шаламов, утверждал противоположное: требования этого
мира не заставляют человека совершать восхождение, но обрекают его на растление. Когда речь идёт о простейшем хлебе, подхватывает и Солженицын, включаясь в спор, "думать ли тебе о своём горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге?" Но не о простейшем же речь…
Спор между Солженицыным и Шаламовым - спор о сущностных основах бытия. Что вызвало вообще этот спор, столь разные воззрения на происходившее? Просто спор шёл на разных уровнях осмысления реальности. Если читать "Колымские рассказы" Шаламова, это страшное свидетельство прошедшего все круги земного ада страдальца, то легко разглядеть: автор видит жизнь человека на уровне существования его тела, не выше. Именно тело, как бы отбросившее от себя душу с её потребностями, оставшееся с одними своими инстинктами, с тягою к выживанию, ради которого оно готово на всё, - вот что остаётся от человека в рассказах Шаламова. На этом уровне говорить о «восхождении» - бессмысленно.
Солженицын взывает к духу. Дух же может и пасть, но и восстать мощно.
Пребывая на столь разных уровнях, никогда не придти к согласию.
Солженицын прямо утверждает: вера ограждала людей от растления и в лагерях. Растлевались же те. кто был лишён "нравственного ядра" ещё до лагеря - убеждён писатель. Кто был растлён ещё и «вольной» жизнью.
Так ещё раз проявляется порочность эвдемонической идеологии, безбожной по сути, не отягощённой никаким духовным воспитанием.
Лагерная же система была рассчитана на отвращение человека от духовного внутреннего труда.
Повествование в отмеренных сроках "Красное колесо" (а оно начинало создаваться ещё до изгнания) стало сразу невиданным дотоле явлением в истории мировой литературы.
Эта грандиозная эпопея строится автором по законам контрапункта, в сопряжении тем, проблем, идей, относящихся к различным пластам реальности, ко многим уровням человеческого бытия. Личное и всеобщее становятся у писателя неотделимыми одно от другого, узор повествования накладывается на плотный исторический фон, представленный в документах, но и соединяется с мусором истории, захламляющим пространство газетными обрывками, мелкой суетливостью персонажей, недостоинством даже и значительных деятелей. Что поделаешь? История движется не по выметенным тротуарам проспектов, а по бездорожью с непролазной порой грязью, от которой никуда же не деться.
Судьба человеческая вбрасывается в историю, история начинает вершиться судьбами отдельных людей. Она и строится по образцу взаимоотношений между людьми. Нити истории время от времени стягиваются в узлы, где события обретают судьбоносный смысл, - автор исследует их пристально, во всех подробностях, больших и маловажных. Из этих узлов он составляет своё повествование.
У Солженицына несомненно есть то, что Бахтин несправедливо приписывал Достоевскому: эпопея "Красное колесо" - большое полифоничное полотно, где в хаосе идей и понятий всё порою представляется равнозначным. Кто прав, кто виноват? Иногда постигнуть не сразу удаётся. Это проявлялось уже и в прежнем творчестве писателя, теперь становится особенно заметным.
Солженицын выходит здесь на особый уровень психологического анализа: он абсолютно вживается в каждого своего персонажа, начинает мыслить и чувствовать в полноте его внутреннего состояния. Даже у Толстого и Достоевского, этих признанных психологов (и у самого Солженицына, когда он писал о Сталине) всегда чувствуется некоторая дистанция между автором и его героем, даже когда совершается глубокое проникновение в переживание человека. Теперь у Солженицына эта дистанция исчезает. Ленин, Николай II, Императрица, убийца Богров, вымышленные персонажи - все обретают абсолютную независимость от повествователя, тем как будто утверждая неопровержимость собственной правоты в видении мира и в действиях своих. Каждый становится по-своему прав и опровергнуть эту правоту повествователь в самом ходе самораскрытия персонажа не может: для этого и нужна была бы та дистанция, тот зазор между автором и героем, которых у Солженицына нет. Он полностью перевоплощается в другого человека и вынужден со-чувствовать его правоте.
Может быть Солженицын - наивный релятивист? Нет. Просто он предельно объективизирует критерии оценки всего совершающегося. И затем он поверяет истину той мудростью, какая стоит не только над персонажами эпопеи, но и над ним самим - на некоей недосягаемой высоте, позволяющей осмыслить всё достаточно трезво и непредвзято. Знаками этой высокой мудрости становятся для писателя чёткие сгустки человеческого опыта, выделенные даже графически в общем потоке текста повествования.
Конечно, всё выявляется в общей сложной эстетической системе произведения, в сплетении образных связей, сопряжении событий, в выверенном соотношении внешнего образа действий и внутреннего состояния каждого человека. Однако и полифония не стихийный, а сознательный эстетический принцип писателя.
Посмеем утверждать, что центральной идеей эпопеи, проникающей её всю от начала до конца, стала мысль, высказанная на первых же страницах, - мысль, определяющая судьбу одного из важнейших персонажей, имеющего к тому же и слишком ясную обозначенность - Саня (Исаакий) Лаженицын: "Россию… жалко…"
Россию жалко…
И тут же яростный отпор:
" - Кого? - Россию? - ужалилась Варя. - Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?"
Вопрос на все времена. И ответа требует, как бы ни был тот вопрос противен кому-то. Какая Россия, чья Россия требует сострадания и любви? И требует ли? И достойна ли?
По России же прокатывается красное колесо истории. Этот образ рефреном несётся и через всё пространство повествования. И даже когда нет его зримо, оно всегда ощущается таящейся угрозой - всем, народу, государству, каждому человеку.
"О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждается на том, что есть, на том растёт - и в этом её сила".
Хоть и не названо, но ясно становится, что речь идет о Промысле, который должно человеку принимать в полноте Божьей воли.
Солженицын пристален в описании религиозной жизни человека, ибо для писателя вера становится важнейшим критерием при определении характернейшего в участниках движения истории. То есть той чередой вех, какая помогает отыскать верный путь через полифонию пространства эпопеи.
Там где вера, где важнейшее - духовное, там не обойти осмысления смирения как основы этого духовного. Как закон выводит Солженицын: "Кто мало развит - тот заносчив, кто развился глубоко - становится смиренен". Вот и ещё одна веха на пути. Вот и ещё одна мера для приложения к человеку. Вот и критерий в споре.
Описания человека в церкви у Солженицына можно отнести к ряду особенно проникновенных в русской литературе. Шедевром может быть признана молитва Императора Николая Александровича в ночь после отречения.
Но не только богомолен человек, может и дрогнуть он, отвергнув веру в кажущейся очевидности мирового безбожия. Стойкости в вере мало порой.
Высокие сомнения, доступные искренним искателям правды, всегда сопровождаются захламляющим шумом тех, кто в осмыслении бытия не способен подняться над уровнем обыденного сознания. Солженицын и таковые не обходит вниманием, приводя выдержки из "свободных газет" как добросовестный историк.
Однако это всё сопутствующие обстоятельства, а как мыслит автор роль самого Православия на Руси, особенности бытия Церкви? Об этом он тоже высказывается кратко и без обиняков (внешне облек ля свои мысли во внутренние раздумья отца Северьяна, да это лишь условный приём):
"Пусть не просто приняла христианство - она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она приняла его себе в названье жителей, в пословицы и приметы, в строй мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла, себе во всеобщую охрану, его поимёнными святцами заменила всякий другой счётный календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих окружий, его службам - свои предсветья, его постам - свою выдержку, его праздникам - свой досуг, его странникам - свой кров и хлебушек.
Но Православие, как и всякая вера, время от времени и должно разбредаться: несовершенные люди не могут хранить неземное без искажений, да ещё тысячелетиями. Наша способность истолковывать древние слова - и теряется, и обновляется, и так мы расщепляемся в новые разорения. А ещё и костенеют ризы церковной организации - как всякое тканное руками не поспевая за тканью живой. Наша Церковь, измождаясь в опустошительной и вредной битве против староверия - сама против себя, в ослепленьи рухнула под длань государства и в этом рухнувшем положении стала величественно каменеть.
Стоит всеми видимая могучая православная держава, со стороны - поражает крепостью. И храмы наполнены по праздникам, и гремят дьяконские басы, и небесно возносятся хоры. А прежней крепости - не стало".
И далее многие нестроения церковные писатель верно называет. Но опять, кажется, не вполне различает Церковь и церковную организацию. Потому что именно Церковь и хранила неземное тысячелетиями без искажений. Та самая Церковь, которая основы веры не «обновляла» и не толковала суемудро, - Православная Церковь. В этой Церкви нет и не может быть нестроений. А среди людей, будь они хоть и иерархи, всё может случаться.
И ещё вопрос: что тогда есть Россия? Просто ли племенная масса, живущая на громадной территории, и не организованная разве посредством определёной внешней формы, государственного устроения?
"Им нужны - великие потрясения, нам нужна - великая Россия!" - эта столыпинская фраза, кажется, принятая автором нераздельно, предполагает, в числе прочего, и силу государственную. И если - Россию жалко, - то и от того, что разъедается её государственная основа, что разрушается государство прежде всего самими служителями этого государства: бездумно, или корыстно, или со злобным умыслом. А великая Россия - это ещё и "полный гордого доверия покой". Так что именно те, кто государственную основу подрывал, войне споспешествовали. Парадокс?
Писатель отмечает то, что и поныне не избыто, питаемое либеральными идеями: шельмование самой любви к родине. "И правда, ухо трудно привыкало отличать «патриот» от «черносотенец», всегда прежде они значили одно".
Россию жалко…
Один из самых запоминающихся образов эпопеи "Красное колесо" - плач по России, совершаемый неведомым седым, одетым во всё белое дедом - не простым, святым? - рыдание неутешное о том, чего "и сердце не вмещает" (Узел III, гл. 69).
Россию жалко…
Вопрос же о государственном устройстве становится не из последних в размышлениях о судьбах России.
Осмысление монархической идеи доныне тревожит сознание русского человека. Солженицын опирается на идеи И.А. Ильина, быть может, вершину монархической идеологии, - доверяя пересказать их профессору Андозерской. Выделяется прежде особая природа монархии, врученность власти свыше, так что становится монарх подлинный не властителем, а несущим бремя власти, отказаться от которой не может. Монарх не может стать и тираном, ибо на нём ответственность перед Высшей Властью, чего не знает тиран.
Что выше - данное от Бога или идущее от несовершенного человеческого разумения? Вот суть спора о способе правления.
Монархия отражает установленную свыше иерархию ценностей (не всегда совершенно - да), республика - механическое равенство, бессмысленное по истине.
Солженицын разделяет в царственном страстотерпце Николае II, носителе высшей власти, - монарха и человека. Многие монаршие промахи не упускает писатель, но он же и утверждает: "Лишь высмеянный и оклеветанный царь - через всю муть революции прошёл без единого неблагородного или нецарственного жеста". А всё же горький вывод: "Не потому пала монархия, что произошла революция, - а революция произошла потому, что бескрайне ослабла монархия".
Но сколько было приложено старания, чтобы ослабить её! Толпами проходят через пространство эпопеи совершители злого дела: от высших сановников, военачальников, политических лидеров до крупных и мелких бесов революционного разора. Одни бездумно, только о собственной корысти беспокоясь, губили Россию, другие - сознавая смысл творимого.
Бездарное руководство, гражданское и военное, ничего не умеющее, мало понимающее в том деле, за которое взялось, порождало ту обстановку безволия и неустойчивости, в которой особенно вольготно чувствовала себя вся либеральная и революционная гнусь.
Свобода низменных страстей всё более захлёстывала бытие. Начиная с 1905 года левые развязали невиданный террор. И до сих пор прогрессивная общественность не стыдится обвинять правительство, вознося обычных уголовников, придавая им благородное обличье. Приговором этой мерзости звучат слова Солженицына:
"Просто цифры, господа! За первый год русской свободы, считая ото дня Манифеста, убито 7 тысяч человек, ранено - 10 тысяч. Из них приходится на казнённых меньше одного десятого, а представителей власти убито вдвое больше. Чей же был террор?…"
Солженицын ясно показывает, что в этом революционном безбожии свободу можно расширительно толковать в угоду чьей угодно корысти. Вожделениям тех же уголовников, участие которых в революции предрекал ещё Достоевский.
Среди прочих особенно интересна фигура Ленина. Показано в эпопее важнейшее в Ленине: полное его незнание никаких моральных принципов. Для него - то и нравственно, что выгодно. Это в живой ткани художественного повествования становится особенно зримо-отвратительным. Ленин раскрыт автором как политик, ограниченный в общем постижении событий, в самом охвате бытия, но слишком цепкий в тех частностях, какие дают временный (в общем историческом масштабе) и несомненный успех. Общего он не смог угадать, а в мути, созданной всей революционной дрянью, мгновенно сориентировался. Самое ужасное, что "Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России". Вот что страшно: России ему не жалко вовсе.
Сами методы большевистской митинговой пропаганды, за которыми ощущается жёсткий рассудок вождя, отличаются дикарской моралью.
Солженицын и то не упустил показать, что во всей это дряни вызревала идея собственного «религиозного», якобы духовного осмысления совершавшегося. Суть же этой «духовности» раскрылась подлинно и символически в колокольном звоне, какой раздался над Москвою при начале всех бедствий: "Да, бил Кремль. Во многие колокола. И, как всегда, выделялся среди них Иван.
За шестьдесят лет жизни в Москве и в одной точке - уж Варсанофьев ли не наслушался и звонов, и благовестов? Но этот был - не только не урочный, не объяснимый церковным календарём, - утром в пятницу на третьей неделе Поста, - он был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. Много, и бестолково, и шибко, и хлипко было ударов - да безо всякой стройности, без лепости, без умелости. Это удары были - не звонарей.
То взахлёб. То чрез меру. То вяло совсем и перемолкая.
Это были удары - как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать…
Как в насмешку…хохотал охальный революционных звон".
Россию жалко…
Потому что многие только и мечтали, как бы её сломать. Продолжая старые нигилистические поползновения, старую ту дурь, уже и прапорщик русской армии безжалостно режет в ответ на робкое замечание, что нужны России работники, делатели: "Ещё эту гнусность достраивать! Ломать её нужно без сожаления! Открыть дорогу свету!" Ещё и свет в той тьме надвигавшейся углядывали.
Мы теперь знаем, как ответило то историческое время на все важнейшие вопросы. Но вопросы остались, потому что тем временем не всё кончилось в истории. Прокатилось колесо, но уцелела Россия.
Уцелела ли?
Вопросы остаются и требуют ответа: к какому развилку спешить? под какой камень готовиться уложить себя?
Помогает ли эпопея Солженицына ответить на эти вопросы? Помогает несомненно, если вдумываться в написанное.
Для нашего ли торопящегося времени эта книга?
В неё требуется медленно войти, как в глубокую воду, и долго пребывать в ней. А мы уже привыкли к быстрому суетливому мелководью…
Он писал "Красное колесо" как художник и как исследователь. Художнику важна точность и ёмкость образов, когда частности могут быть отброшены ради цельности общей; исследователю потребна полнота обретённого материала, когда никакая частность не является лишней. Два этих начала не могут не вступить в противоречие. Но если в «Архипелаге» они установились в гармонии, то в «Колесе» одолевал часто исследователь - перегружал пространство теми подробностями, от которых художник должен бы избавляться.
Выскажем свою догадку, почему так произошло. Солженицын, осуществляя своё мощное дарование в творчестве, остался всё-таки в рамках старого реализма, не дающего подлинных возможностей для развития художественной системы. Поэтому при всей внешней новизне своих эстетических приёмов Солженицын усложнил структуру и содержание повествования количественно, но не качественно. И это сказалось на результате.
После эстетических открытий Чехова (а перед тем Пушкина в "Борисе Годунове" и Достоевского в "Братьях Карамазовых"), с его разноуровневым ёмко-лаконичным отображением бытия, после творческого поиска Шмелёва (в "Путях небесных") система размеренного и отягощенного подробностями линейного одномерного (при всей структурной объёмности) повествования кажется устаревшей.
И ещё одно есть, что оставляет какую-то неудовлетворённость по прочтении эпопеи. Того многого истинно мудрого и глубокого не охватить, что есть в ней, и вопросы поставлены единственно верно. А единственно верного ответа, кажется, не подсказано.
Чтобы уяснить это, следует охватить всю систему взглядов писателя.
Солженицын чрезмерно силён, когда раскрывает истинную природу большевизма или западного либерализма (а наш от того произведён), он проницателен в конкретных наблюдениях над постсоветским временем и в советах, как избыть многие пороки современной реальности. Но о чём его главная печаль? О времени. Это важно, но этого мало для писателя такого масштаба.
Важнейшим вопросом для всякого русского человека, хоть не всегда он то сознавал, является русский же и вопрос. Солженицын не мог его обойти, написав работу, так и обозначенную: "Русский вопрос" к концу XXвека (М., 1995). Писатель даёт обширный экскурс в историю. С чем-то в нём можно согласиться, что-то дополнительно обсудить. Но не это главное. Важнее, на каком уровне он осознаёт тот вопрос. Мыслит же он проблему в категориях прежде всего геополитических, затем культурно-национальных, также экологических, не обходит вниманием и Православие, но усматривает в нём (хотя бы по общему объёму текста, весьма незначительному, который этой теме посвящен, - можно о том судить) лишь одну из особенностей народной жизни, едва ли не равную среди прочих, - а это ведь стержневое начало русской жизни.
Сам русский вопрос Солженицын трактует как вопрос сбережения народа. Но это не может быть конечной целью осмысления вопроса. Ибо тут же разумеется возможное недоумение: а для чего то Сбережение? Вопрос остаётся открытым.
Солженицын много говорит (и не только в названной работе) о необходимости упрочения российской государственности и сбережения русского народа, но нигде не отвечает на вопрос: а для чего?
То есть он может сказать, что ответ мыслится в рамках его же (глубокой и справедливой) убеждённости: нация - богатство человечества: при утрате какого угодно национального начала - человечество обеднеет неизбежно. Да ведь человечество столько уже постаралось для своего обеднения, что не обеспокоится и новой утратой. И вопрос прозвучит вновь и вновь, как в тех стихах Алтаузена о спасителях отечества: стоило ли спасать-то?
Если вопрос кем-то поставлен, то как бы он ни был противен нашему сознанию, нашей душе, он начинает существовать и требует ответа. И если русские, в справедливом негодовании, отвернутся от него, посчитав кощунством, то найдутся - находятся давно уже! - такие, кто посмеет ответить при русском молчании вполне по-смердяковски. И враги России подхватят многоголосо, так что все попытки возразить тут же увязнут в окружающем оре.
Зачем нужно спасать Россию? Ведь существование русского начала мешает человечеству двигаться по пути материального прогресса и цивилизации. (И прав будет тот, кто так мыслит.) Потому что русское начало (наша литература то и подтверждает) ориентировано на стяжание сокровищ на небе, а не на материальный прогресс. Русское начало нацелено на вечность, а не на время. Потому что оно - православное. (Достоевский верно сказал когда-то: кто перестаёт быть православным, утрачивает право называться и русским.) Тут всё так тесно взаимосвязано. Русское начало, впрочем, не поперёк прогресса стоит, но зовёт: сперва о небесном подумаем, а земное приложится. Безбожному же человечеству это просто смешно, поэтому и русское начало ему только мешает. Зачем же сберегать этот народ?
Проблему можно решить только в одном случае: если соединить национальную идею с над-национальной, сверх-национальной целью, постоянно помятуя об истине, высказанной Достоевским: правда (Христова) выше России.
Солженицын постоянно призывает жить не по лжи. Он пишет и теперь: "Мы должны строить Россию нравственную - или уж никакую, тогда и всё равно. Все добрые семена, какие на Руси ещё чудом не дотоптаны, - мы должны выберечь и вырастить".
А зачем? Вообще высокая нравственность (сам же писатель убедительно то показал) часто, если не всегда, мешает материальному благоденствию. Да это любой человек нутром чует. Нам теперь навязывается идеал потребительства, а для него нравственность лишь помеха.
Все вопросы можно развеять, сознав: если не хочешь собственной гибели в вечности, то не гонись исключительно за земным - так Сам Бог говорит. Но чтобы то сознать, нужно веру иметь.
Всё рухнет вне веры. Вот утверждает писатель едва ли не как высшую формулу нравственного закона, высказанную дворником Спиридоном: "Волкодав прав, а людоед - нет". Да, здесь точное разделение законов мира звериного и мира человеческого. Но как не ошибиться: где волкодав, где людоед. Конечно, с такими персонажами, как Ленин, Сталин, Абакумов или лейтенант Волковой, сомнений нет… а как с Васей Зотовым? Он ведь искренен, чист, идеален в каком-то смысле. Он, пожалуй, и примет закон Спиридона, да не разберётся, где кто. И сам к людоедам пойдёт (и пошёл) с чистой совестью. Совесть без Бога - до ужасного самого дойдёт.
Шулубин в "Раковом корпусе" взывает к некоему внутреннему чувству (вспоминая Фёдора Иоанновича из трагедии А.К. Толстого) помогающему отличить добро от зла, правду от лжи. Ненадёжный критерий: многие искренне ошибались (не имея веры, какую персонаж трагедии нёс в себе, - главного упускать не надо).
Значит, чтобы нравственность утвердить, нужно крепить веру. Вот для чего русское начало необходимо: оно веру в себе несёт (а кто не несёт, тот не русский). Вера и Церковь поэтому первичны при любом раскладе.
Солженицын пишет иначе: Церковь мыслит как вспомогательное средство для укрепления нравственности. Он спрашивает: "Поможет ли нам православная церковь? За годы коммунизма она более всех разгромлена. А ещё же - внутренне подорвана своей трёхвековой покорностью государственной власти, потеряла импульс сильных общественных действий. А сейчас, при активной экспансии в Россию иностранных конфессий, при "принципе равных возможностей" их с нищетой русской церкви, идёт вообще вытеснения православия из русской жизни. Впрочем, новый взрыв материализма, на этот раз «капиталистического», угрожает и всем религиям вообще".
Из книги Священный вертеп автора Таксиль ЛеоАЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ. После смерти Адриана четвертого был избран папой кардинал Роландо Бандинелли – тот самый кардинал, который, будучи папским легатом, на одном из сеймов чуть не был убит немецким вельможей за надменные слова, в гневе сказанные Фридриху: «От кого же
Из книги Первая молитва (сборник рассказов) автора Шипов Ярослав Алексеевич Из книги Библиологический словарь автора Мень АлександрАлександр Познакомились мы с ним на празднике, случившемся из-за шестидесятилетия местного гармониста. Игрун этот был известен в области, а потому устроили большой праздник, на который приехали другие знаменитые виртуозы трехрядок и балалаек, а за ними - питерские
Блаво Рушель
А. И. Солженицын. Пасхальный крестный ход В творчестве Александра Исаевича Солженицына (род. в 1918 г.) часто встречается обращение к христианской морали, к библейским мотивам. В одном из наиболее известных и талантливых его произведений, рассказе «Матренин двор» (написан в
Из книги Самые знаменитые святые и чудотворцы России автора Карпов Алексей ЮрьевичСерафима и Александр Когда я услышал рассказ дедушки Вахрамея о Хранительнице тайн курумчинских кузнецов, я сразу почувствовал нечто такое, чего в моей жизни не было уже очень давно, но без чего дальше эта самая моя жизнь будет безнадежно пуста и холодна. Почувствовал я,
Из книги Уроки истории автора Бегичев Павел АлександровичАЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (ум. 1263)Князь Александр Невский, один из величайших героев древней Руси, родился в городе Переяславле-Залесском 30 мая 1220 года. Он был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича, будущего великого князя Владимирского. Мать Александра - по
Из книги «Райские хутора» и другие рассказы автора Шипов Ярослав Алексеевич Из книги Святые и порочные автора Войцеховский ЗбигневАлександр Познакомились мы с ним на празднике, случившемся из-за шестидесятилетия местного гармониста. Игрец этот был известен в области, а потому устроили большой праздник, на который приехали другие знаменитые виртуозы трехрядок и балалаек, а за ними - питерские
Из книги И было утро... Воспоминания об отце Александре Мене автора Коллектив авторовАлександр Невский Александр Ярославич, названный народом Невским, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский, причислен Русской православной церковью к лику святых…Он родился 30 мая 1221 года в Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав Всеволодович, «князь
Из книги Путеводитель по Библии автора Азимов АйзекОтец Александр, Александр Владимирович, Саша. (В. Файнберг) Дорогой отец Александр,Александр Владимирович,Саша!Того, что случилось 9 сентября 1990 года, не вмещает моя душа. Никакие доводы рассудка, даже могила в углу церковного дворика - ничто не может заставить привыкнуть
Из книги Энциклопедия классической греко-римской мифологии автора Обнорский В.Александр На престол взошел двадцатилетний сын Филиппа, который правил как Александр III. Однако ввиду его удивительной карьеры он во всем мире известен как Александр Великий или Александр Македонский. Александр начал с восстановления власти своего отца, подавляя
Из книги СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ О СВЯТЫХ,ПРОСЛАВЛЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ автора Коллектив авторовАлександр Епифан Возможно, ситуация была нестабильной, и она продлилась недолго. После того как в течение десяти лет правил Димитрий I Сотер, обладавший относительно небольшими способностями, династические ссоры снова ввергли селевкидскую монархию в хаос: 1 Мак., 10: 1. В
Из книги автораАлександр – 1) имя Париса («отражающий мужей»), когда он жил с пастухами и не знал о своем происхождении.– 2) сын Еврисфея, царя Микен, и Аминто. Брат Ифимедонта, Эврибия, Ментора, Перимеда и Адметы; погиб в битве с
Из книги автораАЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ святый, благоверный великий князь, сын Ярослава II; родился 1220 г. мая 30. В 1236 г. получил он в удел княжение новогородское, и умел снискать любовь и приверженность граждан. Победа, одержанная им в 1241 году, июля 15, над шведами, на берегах Невы, близ устья Ижоры,
отвечает Александра
Плохо я отношусь к Солженицыну. А читать его можно.
И говорить о нем, и друзьям рассказывать
Еще при Брежневе, когда вышла первая книга Солженицына "Один день Ивана Денисовича", я, не способная тогда анализировать из-за недостатка информации, восхищалась Солженицыным и переписывала в тетрадь все его высказывания, устные и письменные, из публикаций.
Вот некоторые из них:.
"Два обстоятельства сошлись и направили меня. Одно из них - наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то, чтоб открыто писать и говорить, и друзьям рассказывать, что думаем и как истинно было дело - мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится".
Да, в то время это было так, и радостно было слышать об этом. Как запретный плод, который, как известно, сладок.
Потом, в январе 1974 года появилось интервью журналу Таймс. Полный восторг. Оказывается, что-то можно поменять в жизни, преодолев страх!
Следом - заявление 2 февраля 1974 года. "Я никогда не сомневался, что правда вернется к моему народу. Я верю в наше раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России".
Ура! Эврика!.
Далее: письмо прокуратуре Союза ССР:
"В обстановке непроходимого всеобщего беззакония, многолетне царившего в нашей стране я отказываюсь принять законность вашего вызова. Прежде, чем спрашивать закон с граждан, научитесь выполнять его сами... "
Герой!!!
"И пусть паралич, которым Бог наказал вашего первого вождя, послужит Вам пророческим пророчеством того духовного паралича, который ныне неминуемо надвигается на вас"
Не сомневайтесь, есть. И спросит - ответите. Отнимите Россию у Каина и отдайте ее Богу".
Написал это, правда, не Солженицын, а Л.Л. Регельсон, его друг и советчик, еврей, кстати.
Книга "200 лет с евреями" написана под его диктовку.
Евреев тогда не гнали и не считали врагами. Внешних евреев.
Полно было своих (как и сейчас) в правительстве. Но это наши, генетические измененные евреи, думали мы, читая Регельсона.
Опять Соженицыну - ура!
Потом публикуется "Письмо IV Всесоюзному съезду писателей". Здесь много новых мыслей, приведу одну из них:
"Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произносить, но вот он умер - и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях. Воистину сбываются пушкинские слова: "Они любить умеют только мертвых".
Опять он прав и опять он герой.
Потом вышла книга, написанная им в лагере "Пир победителей"..
Какая разразилась полемика среди всех абсолютно писателей.
Появилась возможность высказываться.
И добился ее - Солженицын!.
Откликается Солженицын на это прекрасным письмом Съезду Союза Писателей:
"Теперь в обвинении о так называемом очернении действительности. Скажите: когда, где, в какой теории ОТРАЖЕНИЕ предмета становится важней самого предмета?
Получается так: не важно, что мы делаем, а важно, что об этом скажут. И чтобы ничего худого не говорили, будем обо всем происходящем молчать, молчать, молчать. Но это - не выход. Не тогда надо мерзостей стыдиться, когда о них говорят, а когда делают. Как сказал поэт Некрасов:: Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою". А тот, кто все время радостно-лазурен, тот, напротив, в своей родине равнодушен".
Во как...
Далее:
"...хотят забыть, закрыть сталинские преступления, не вспоминать о них.
"А надо ли вспоминать прошлое?" - спросил Льва Толстого его биограф Бирюков. И Толстой ответил: "Если у меня была лихая болезнь и я излечился и стал чисты от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и еще хуже, и мне хочется обмануть себя".
А мы больны и всё так же больны. Болезнь изменила форму, но болезнь всё та же, только ее иначе зовут. Болезнь, которою мы больны, есть убийство людей... Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, никак себя не оправдывая и не ища причины извне - и наше новое теперешнее насилие откроется. А хорошо б задуматься: какое моральное влияние на молодежь имеет укрытие этого преступления? Это развращение новых многих миллионов". (Это он топчет Сталина: из-за него он сидел. Тогда он для нас был герой, поскольку осмысления роли Сталина в истории Российской еще быть не могло).
Затем выступает Кожевников:
"Вот вы в письме отрицаете руководящую роль партии, а мы на этом стоим..."
Завершает съезд Левченко: "Исключить писателя Солженицына из членов Союза писателей".
Герой, страдалец, патриот!
Как иначе было расценить, не зная истории Российской так, как мы знаем ее сейчас (не все, правда).
Потом пошли открытые письма тому, сему. Суслову, Косыгину. Дошло до Андропова.
Вот с этого началось его падение в наших еще слепых глазах. За отчизну обидно стало.
Потом - роман "Октябрь 16-го". И того хуже. Одно описание деятельности нашего святого Царя чего стоит...
Проанализируйте его книги, касающиеся монархии. Ужаснетесь.
А обиду на свою изломанную с молодости жизнь он возложил на Царя, и на Сталина. На Сталина - особенно.
Простить ему не мог гулаг.
Конечно, тогда еще не было акафиста царю Николаю II, где ясно озвучена историческая миссия для России Сталина:
Кондак 12.
"Благодать Господь отъя от России во дни тыя и посла КАРАЮЩУЮ ДЕСНИЦУ СВОЮ - ПРАВИТЕЛЯ ИОСИФА, да накажет народ непокорный сей за преслушание клятвы, древле отроку Михаилу Романову данной, сего ради полились реки крови людския за убиение помазанника Господня излиянныя и наста на Руси тьма великая и казни египетския..."
Вернулся он к нам, на родину, с ясными глазами и чистой совестью, озабоченный лишь мыслею: "Как нам обустроить Россию"
Я ему сразу всё простила.
Но и попытки обустроить предпринимались такие, будто он еще в Гулаге: ни писать не дают, ни говорить об этом...
Вы читали его "Архипилаг Гулаг?" Впрочем, нет, конечно. А зря.
А в "Круге Первом?"
Приведу очень характерный отрывок из последнего:
"Но смысл жизни? Мы живем - и в этом смысл. Счастье? Когда очень-очень хорошо - вот это и есть счастье, общеизвестно.
Чтобы понять природу счастья, разреши, мы сперва разберем природу сытости. Вспомним ту реденькую полуводяную, без единой звездочки жира - ячневую или овсяную кашицу! Разве ее ешь? - к ней со священным трепетом приобщаешься, причащаешься, как к той пране йогов! Ешь, ты содрогаешься от сладости, которая в тебе открывается в этих разваренных крупинках и мутной влаге, соединяющей их. Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?
Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим а от того КАК мы едим!
Так и счастье. Оно совсем не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали от жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним!
Об этом сказано еще в даоской этике: "Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен".
Ни Бог, ни Россия, ни Царь его не интересовали. Он был далек от этого. Обличать власти, ничего не предлагая в замен - его кредо.
Царство ему Небесное, если он был крещенный. Вроде - нет. Не нашла я упоминания ни о том, ни о другом.
Бог ему судья.